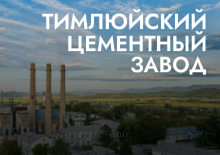«Байкал-Daily» приводит текст рецензии:
В кои-то веки, чрезвычайно редко, раз лет в двадцать вдруг удивится такой прожженный человек, как я, поэтической книге. И вот подарил мне человек Амарсана Улзытуев свою книгу стихов только что, 20 апреля. На обложке фотография: агромадная голова махрового степняка, стиснувшего веки, чтоб нас не видеть, играть бы такому главного монгола в фильме о монгольском могуществе, – это автор. Вообще говоря, этой своей агромадной башкой – казаном Амарсана вводит нас в заблуждение, отвлекает, так же как и горловым, хриплым, в шаманской манере камланием своих стихов, – пускает по скорее ложному пути. Нет-нет, Амарсана не притворяется степняком, он стопроцентный бурят и, значит, монгол, но его духовная территория шире нашей, он расположился сразу и в Китае, в буддизме, и в шаманизме, и в Руси – России, и в Европе, тоже свободненько, как в родной, словно он их местный Бодлер либо Верлен, или наш русский Клюев чудесный. Имеется в виду, что он всемирный такой человек, все понимает, интеллектуал из племени Чингисханова. Мне в нем что нравится? Что он принципиально не мелкий, не воспевает мелкую, профаническую общественно-личную обывательскую жизнь. Что он поет о высоком, о Богах, о Духах, о предках, о Вселенных и Бездне Хаоса, хотя он его так не называет. Почти все песни его о высоком, и он позволяет себе только мелкие вкрапления современности, примет нашего дня, всякий раз чуть вышучивая их, стесняясь. Надо же о высоком.
И всходил древний хунн, сын косматого синего неба,
Иволгинскою степью на былинную гору свою,
Сквозь забрало прищуренных век богатырским окидывал взором:
Сколько лун до Срединной – совершить свой набег...
...
Не молился, а просто беседовал с космосом – братом,
Не божился со страху, а демонам повелевал...
Или вот о детстве Амарсаны:
У села Цагаан-Морин, то есть Белая Лошадь, у одноименной реченьки,
У самого детства моего деревенского, летнего – на юге Бурятии,
Как взбирались мы на горку, на высокую Хуугэн-обоо –
Капище, в смысле, Детское – для детей стало быть...
И вот мы карабкаемся на нее, на самую ее макушку с проплешиной,
Иволгу по пути слушаем, землянику кушаем, камешки вниз кидаем.
А сами думаем, не рассердятся ли на нас эзэны, таинственные и грозные,
С глазами кузнечиков и стрекоз, с ушами одуванчиков и васильков.
А вот как рассердятся, так и спрячут от нас землянику сладкую,
А вот как солнышко тучами закроют-затянут, а то и грозой отстегают...
Потому и молча идем-взбираемся, стадо загорелых и голопузых,
Потом от жары и жажды исходим, а кто соплями зелеными.
А следом за нами бабки наши и дедки, которые уже умерли,
А с ними и те из нас, которые уже выросли и тоже умерли,
Взбираются разношерстной толпой, как тарбаганы-суслики, озираются,
Взопрели в своих шелковых халатах, бездонных, как детские сны...
Вот и капище – с каменным туром, с разноцветными лоскутами на деревцах,
Воина древнего здесь, с незапамятных пор доспехи зарыты,
Все мои родичи по маминой линии, со всей пучеглазой Закамны, здесь собрались,
Вселенная – ты тверже смерти, камлает старик, жертвуя спички и молоко...
Я бы цитировал всю книжку, чудесна зарисовка «Похороны Эдди, Северная Гана», увиденная весело и парадоксально, где умершего черного рыбака друзья несут в гробу, сделанном в виде рыбы, а вдова его причитает:
– Проснись! – поет вдова, – вставай, лентяй!
Просят твои детки голодные рыбы кусочек!
Ну же иди и поймай нам немного еды!
Нужен ты нам, черный верзила!
Но процитирую напоследок вот «Байкальское солнечное»:
Надо мною солнце светит
И собой меня бессмертит.
Солнце по небу идет
И собой меня поет.
И собой меня сияет,
Головою улыбает.
Улыбаюсь головой –
Небо синее собой.
Здравствуй, Амарсана Улзытуев! Я вспомнил, что просидел с тобой у одного костра тысячу лет, брат!